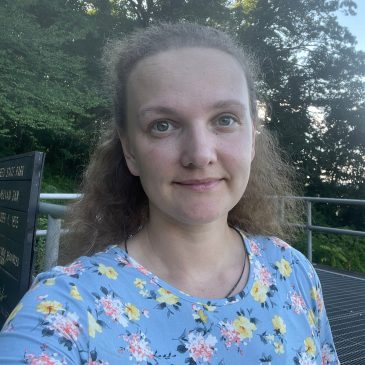Александра Иванская родилась в Ленинграде в студенческой семье, выросла в Северодвинске. Окончила факультет журналистики МГУ, работала в журнале «Агробизнес», газетах «Ведомости» и «РБК Дейли». Перевела на русский язык несколько глав учебника «Прикладной анализ поведения», участвовала в объединениях родителей детей с аутизмом, работала переводчиком на конференциях по аутизму. Преподавала английский язык детям и взрослым. Начинающий автор стихов и прозы. Мама четырех детей, в свободное время играет на флейте.
Редактор публикации — Елена Черникова
Парашютисты
Сумка — если рассматривать её отдельно от Жениной жизненной ситуации — была очень красивая. Про такие говорят: настоящая, добротная, умеют же делать на совесть. Основная часть сумки — прямоугольник из толстой грубой холстины, в которой зелено-коричневые волокна правильно и равномерно переплетались между собой. Почему-то прямоугольник этот не был мягким, как следовало бы холщовому изделию. Нет, он держал форму подобно дипломату или небольшому чемодану. Поэтому Женины тетради по стилистике русского языка, учебник по микроэкономике, “Илиада” в переводе Гнедича (слава Богу, нетяжёлая, в мягком, советском ещё, массовом издании) чувствовали себя в сумке безопасно и уютно. Сверху их элегантно закрывала коричневая крышка-клапан из натуральной, чуть потёртой кожи. Крышка застёгивалась двумя крепкими красивыми кожаными ремешками. В общем, всем была хороша сумка, кроме одного: надевалась на одно плечо. Плечо болело, на нем оставался розовый след, на который Женя ежедневно дула перед сном, отодвинув край ситцевой ночной рубашки, под монотонные разговоры соседок по комнате, звук кипящего чайника, шуршание поролоновых бигудей, стрекотание будильника на завтра, шелест страниц “Илиады”, которую в те октябрьские дни читали решительно все вокруг, потому что решительно все вокруг были первокурсниками журфака. Девственно и безрассудно они ныряли в античный текст, где Гомер перечислял корабли спартанцев с педантичностью коменданта общежития, дважды в месяц выдающего каждому обитателю простынь, пододеяльник и наволочку — серые от времени и пёстрые от штампов разных эпох, твёрдые, склеенные под гладильным прессом, и всё равно загадочно влажные. К аскетичному быту привыкали быстро и не роптали: юность снисходительна к подобным мелочам. Тяжелее было вынести другое: предметы на первом курсе были словно специально подобраны так, чтобы ошарашить и сбить с ног семнадцатилетних провинциальных юношей и девушек, приехавших в Москву за сокровенным знанием о ремесле журналиста. Абсолютно ничего похожего на мастерство литератора или репортёра не преподавалось, зато были: экономика — макро и микро, история печати, теория печати и даже техника печати. От разочарования многие цеплялись за античную литературу как за что-то хоть отдалённо напоминающее мечты о высшем гуманитарном образовании. С особенной страстью погружались в изучение Гомера и Вергилия провинциальные отличники, дети внезапно обедневших в девяностые постсоветских инженеров — вторая по численности каста студентов журфака. Первой были дети из «хороших московских семей», по каким-то богемным причинам не захотевшие в МГИМО или на экономический. Отличить первых от вторых можно было по “Илиадам”: у москвичей она была в твёрдом переплёте, из серии “Библиотека всемирной литературы”, со знаменитой миниатюрной лошадкой на обложке. У провинциалов — легкая, бумажная, оранжевая: массовая всенародная серия “Классики и современники”. Как раз такую сейчас держала в руках Женя. Неумолимый гекзаметр рифмовался с монотонными звуками метро и голосом диктора, объявляющего станции красной линии. Рука с книгой немного ныла, потому что, кроме красивой и аккуратной сумки с учебниками, каким-то чудом Женя умудрялась держать при себе ещё и пухлый помятый мешок с физкультурной формой. Внимания сумке Женя почти не уделяла. Та сама беспрерывно напоминала о себе ноющей болью в плече, уменьшить которую можно было лишь хитростью: прислониться корпусом к стеклянной двери с надписью “Не прислоняться” так, чтобы сумка оказалась прижата к стенке, а натяжение ремня ослабло вместе с болью. Так Женя и сделала, на время забыв о злосчастной сумке.
Злосчастной — потому что на станции «Спортивная» в вагон вошли «парашютисты». Женя ещё не знала этого названия. Она просто отметила цепочку молодых цыганок, у каждой из которых за плечами висел младенец, ловко привязанный платком. Вокруг цыганок галдели и копошились дети постарше. Вообще-то Женя помнила, что в такой ситуации следует собраться, насторожиться и мысленно удерживать вниманием ценные вещи. Но сумка была только что удачно прижата к стенке вагона, боль в плече временно ослабла, а наложница Ахилла, его законный трофей после набега на троянцев, была коварно похищена сластолюбивым и неблагодарным царём. Женя увлечённо читала о судьбе живого трофея на протяжении трёх станций. Вышла из вагона. Поняла, что кошелька и проездного в сумке больше нет. Заплакала и подошла к милиционеру. Тот отправил её на “Комсомольскую”, в отдел милиции, отвечавший за все кражи и происшествия в метро. Буквы все равно расплывались перед глазами от слез, поэтому до “Комсомольской” Женя доехала без книги, в горестном сосредоточении и надежде.
— Там были цыганки, — всхлипнула она в отделе милиции.
— Парашютисты штоли? — весело и звонко переспросил молодой парень в форме.
Женя мгновенно поняла метафору, удивилась ее точности и кивнула. “Не реви”, — посоветовал парень. — Много денег было?” Женя назвала сумму — всё, что оставалось до конца месяца, до следующего перевода от родителей. “И проездной”, — добавила она, снова разрыдавшись. Парень помрачнел и ушел посовещаться с другими милиционерами. Через десять минут отдел милиции наполнился возмущенными женскими и детскими криками. В помещение заходили — точнее, забегали под крики и грубые пинки милиционеров — цыганки-парашютистки. Грудные дети-парашюты спали, привязанные к женским спинам, и ни одним писком не осложняли жизнь матерей. Дети постарше быстро и осторожно следовали за женщинами — молодыми, наглыми и почему-то очень красивыми — держались за их юбки и стреляли по сторонам внимательными, цепкими тёмными глазами. Сотрудники милиции деловито рассадили женщин на грязно-рыжих ступенях лестницы, словно зрителей в амфитеатре. Себя Женя неожиданно обнаружила в самом низу, на дощатом пятачке перед лестницей, лицом к зрителям, и тревожно оглядывала их опухшими влажными глазами. Весёлый парень — тот самый, который велел не реветь и который был сегодня кем-то вроде дежурного — встал рядом, тоже лицом к зрителям, протянул руку в сторону Жени и обратился к осторожным, притворно-внимательным лицам цыганок:
— Полюбуйтесь, скоты, что вы с девочкой сделали! На что она жить будет? Последние деньги у неё украли, — он добавил нецензурную характеристику воровок, на которую женщины отреагировали возмущенным ропотом. — Признавайтесь, чей пацан сбежал?
(Он не сказал “сбежал”, вместо этого Женю хлестнуло по щекам гораздо более грубое, похабное слово, от которого слёзы вдруг снова закапали на коричневый кожаный ремень такой красивой, но такой вызывающе неуместной, неудобной, подло предавшей её сумки, сумки-разини, которая теперь виновато лежала на коленях потерпевшей). Слёзы оставляли на ремне темные влажные следы. Женя машинально пыталась их стереть, размазывая пальцем. Они не исчезали, лишь края мокрых пятен становились неровными. Сосредоточившись на этой бессмысленной работе, Женя вдруг осознала, что в вопросе “чей пацан сбежал” кратко зашифрована известная всем окружающим схема: наиболее ловкий и смышленый мальчишка убегает с украденным кошельком, поэтому когда материнский табор в очередной раз приводят в милицию, взять с них уже нечего.
Всем стало очевидно, что спектакль не имеет никакого практического смысла. И тем не менее, присутствующие продолжали его. Цыганки начали фальшиво, но старательно исполнять свою партию:
— Кто тебя обокрал, девочка? Не плачь, милая… Никогда не надо отчаиваться, зачем плакать. Такая красивая, глаза зелёные… А много было денег?
Жене стало противно, она сжала зубы, чтобы не заплакать снова, и постаралась прямо взглянуть в глаза самым взрослым из цыганок. Одна или две действительно отвели глаза, но тут же отвлеклись, утешая цепляющихся за их юбки девчонок. Раздался злобный жестяной стук — это дежурный парень в сердцах пнул стоявшее в коридоре ведро. Из него, вместе с грязноватой водой, выплеснулась склизкая, потерявшая очертания половая тряпка. Дежурный схватил ближайшую к нему женщину, подтащил к ведру: “Чтоб вымыли всё отделение! И только попробуйте ведро спереть, как в прошлый раз!”
Уставшая от слез Женя с удивлением отметила, что у табора и отделения милиции, видимо, есть какая-то давняя история взаимоотношений, в которой Женя — лишь эпизод. Может быть, слегка необычный и эмоциональный, но не меняющий извечной сюжетной канвы. От этого осознания ей стало неожиданно спокойно. Она встала и направилась к выходу. “Погоди, — дежурный взял её за руку и отвёл в крохотный кабинет. — Садись. И не реви, я сказал”. Он порылся в ящиках стола и вытащил проездной. На чужое, тоже девичье, имя. Видимо, недавно конфискованный у какой-то нарушительницы, ездившей по чужому документу. Женя присмотрелась к фотографии. Совсем не похожа. Вздохнула, но с благодарностью взяла проездной. “Не реви”, — в сотый раз сказал Жене дежурный и проводил на выход.
Голова болела от слёз, но в то же время стала какой-то лёгкой и ясной. “Парашютисты, — вдруг вспомнилось Жене. — Метафора. Перенос по сходству. Профессиональный неологизм. А проездной — субстантивированное прилагательное. И дежурный — тоже”. Сумка виновато болталась на плече. Пассажиры ярославского направления катили чемоданы и тележки, окуная колёса в грязные лужи. На Комсомольской площади вкусно и сладковато пахло жареной свининой и горелым тестом.
Я больше не боюсь
Он зашёл за ней около пяти. Женя услышала стук в дверь, не спеша надела странные чёрные остроносые тапки (почему-то на небольшом каблуке), с сожалением отложила «Дон Кихота» (тонкая, папиросной бумаги страница всхлипнула, примятая к колючему покрывалу тяжестью переплёта) и смешно протопала к двери.
— Жень… (Митя обошёлся без приветствия)
— Чего?
— Пойдём в парк?
— Пойдём. Холодно там? Куртку возьму. Если что — в рюкзак.
Митя был странно серьёзен. Едва улыбался и смотрел на Женю из-за очков, которые ей почему-то нравились. Вообще ей нравился весь Митя. Его мягкая манера осторожно брать гитару и по-доброму спрашивать всех, а особенно девчонок, какую песню им хочется. Его привычка посреди всеми любимого русского рока вдруг спеть Вертинского или пронзительные «Кирпичики», в которых он как будущий филолог безошибочно угадывал наивное очарование городского фольклора. Его умение не задумываясь переходить из одной тональности в другую, если так было удобно для Жениной флейты. Его терпение, с которым он записывал ей в нотную тетрадь флейтовые соло для их общих любимых песен («Мить, я стесняюсь, что не умею, как вы все, на слух…» — «Женька, играй и ни о чем не думай. Мелодию я тебе написал, а ритмический рисунок ты сама хорошо слышишь. Вместе будет красиво. Давай в ре миноре, у меня первые два такта»). Даже его шестой этаж Жене нравился гораздо больше чем свой, пятый, казался светлее и волшебнее. Нравились его руки, иногда по-дружески обнимавшие северную девочку Женю, которая совершенно запуталась — это он просто так или что? Это у них на юге так принято — со всеми обниматься? Или Мите нравится обнимать именно её, Женю? Но больше всего Жене нравился Митин голос и слегка необычный для её слуха выговор, когда одни гласные проглатываются, а другие мягко тянутся по неуловимому, но очень красивому закону.
Сейчас этот голос звал Женю в парк. Она не успела обрадоваться или замереть внутри от ликования. Точнее, успела, но мельком. Потому что надо было сообразить, нормальное ли на ней платье (вроде да, точнее, тонкий джинсовый сарафан с белой футболкой), где куртка и что все это вообще значит. Женя пока не придумала что. Такие, как Митя не смотрят всерьёз на таких как Женя. Или смотрят?
… Месяц назад они всю ночь гуляли по ночной Москве вчетвером: Митя, Женя, Лаура с шестого этажа и Женина соседка по комнате Надя. Гуляли — это значит буквально шли и шли, болтая по пути и не переживая о своей общей иногородней студенческой бедности. Шагать, преодолевая пешком станции закрытого на ночь метро, — это было весело и бесплатно. Женю забавляло то, что обе её подруги по уши влюблены в Митю. Она согласилась присоединиться к их прогулке, чтобы осталось в её жизни такое вот воспоминание: ночная Москва и бредущие по ней смешные пьяные влюблённые друзья. Мало ли, вдруг такого больше не будет? (Тут она была права). А ещё Женя наслаждалась тем, что нисколечко, ни капельки не похожа на своих подруг в том, что на неё не действует Митино всем очевидное обаяние. Она улыбалась и смотрела в сторону, когда-то Надя, то Лаура пытались сказать Мите что-то девичье-игривое. Она отмечала их попытки шагать к нему ближе. Ей было радостно и легко от своей независимости и свободы в ту ночь. Пока наконец, ближе к пяти утра, Митины руки не подхватили её и не закружили возле старой трамвайной остановки. И не поставили осторожно на асфальт. И с тех пор Женя не была больше свободна. Но она твёрдо помнила, что такие как Митя не смотрят на таких как Женя. Музыка вместе — это совершенно другое. Утреннее трамвайное мгновение — просто алкоголь или её, Женин, смешной девчоночий вид. Так могли взять на руки, например, котёнка.
… Но сейчас они шагали вместе в парк. За плечами у Жени и Мити были рюкзаки с куртками и водой. У него темно-зелёный, со значками и самодельными рисунками шариковой ручкой. У неё желто-коричневый, с ортопедической спинкой. От метро по асфальтовой дорожке до заброшенного безлюдного парка, почти леса. Там перебраться через ручей. Митя перешагнул первый и протянул Жене руку. Женя почти перепрыгнула, и Митя осторожно придержал её, не давая упасть. Женя сделала следующий шаг по ту сторону ручья, хотела было высвободить руку, но Митя легонько сжал её, давая понять, что дальше они пойдут держась за руки. Женя взглянула на него. «Что?» — спросил он насмешливо, прогоняя так своё смущение. «Ничего», — с улыбкой ответила Женя и погладила Митину ладонь изнутри большим пальцем.
Они дошли до скамейки и сели, стараясь не касаться друг друга. Было очень тепло. Женина ладонь оставалась в Митиной. Он не смотрел на неё. Наклонился чуть вперёд, вздохнул и спросил:
— Жень?
— Что?
— Можно я сейчас тебя поцелую?
— Можно.
Митины губы были необычными. Сухими, мягкими и теплыми. А ещё Женя заметила, что в этом поцелуе нет ни одной фальшивой ноты. Нет стыда, смущения, торопливости, нет желания подбодрить юношу (как бывало у Жени с другими, когда факт поцелуя оказывался важнее и приятнее процесса). Нет неловкого смеха или заготовленных дурацких шуток после. Женя с удивлением поняла, что в этом поцелуе было необычно много настоящего желания. Настоящего женского (то есть девичьего) желания с её стороны. И совсем не было страха.
Женя почувствовала, что подол её и так недлинного платья медленно скользит вверх, поддаваясь Митиной тёплой и настойчивой руке. Какой-то древний инстинкт заставил её остановить Митю здесь, в этой точке, не давая продвинуться дальше. Митя оторвался от её губ, серьезно посмотрел на Женю, аккуратно взял её протестующую ладонь в свою и сказал:
— Жень, я понял. Не бойся меня, пожалуйста, ладно?
— Ага. Не буду бояться.
Митины руки больше не касались места, в котором их робко остановила Женя. Вместо этого они стали нежно гладить её шею, плечи, затылок и пушистые волосы. Тянущаяся футболка с широким вырезом-лодочкой легко соскальзывала с плеч, оставляя на них лишь узкие полоски сарафана и Женины кудри, которые Митя бережно заправлял ей за ухо.
— Можно? — на этот раз спросил он, прежде чем поцеловать только что отвоёванный у её робости кораблик плеча, перетянутый тонкой джинсовой линией.
— Ага, — выдохнула Женя.
Ей было так хорошо, что она не протестовала, когда Митя осторожно высвободил её плечи, локти и запястья из сарафана, и даже когда медленно, с мягким нажимом, опустил вдоль рук её футболку, требовательно обнажая то, что вообще-то Женя должна была оберегать с не меньшей стыдливостью. Но почему-то не оберегала. Теперь Митя осторожно целовал её грудь, иногда поднимая взгляд, чтобы рассмотреть и понять Женин запоздалый ответ на вопрос, который не прозвучал. Судя по всему, ответ был «да», понял Митя, потому что Женя глубоко дышала и перебирала пальцами его волосы. Пахнут лимоном, успела запомнить она. Женины пальцы двигались осторожно и скованно, оттого что руки чуть выше локтей были стянуты футболкой, словно кто-то спеленал их мягким эластичным бинтом. Жене почему-то нравилось быть в таком нежном плену, нравилась своя податливая беспомощность, и ей не хотелось нарушить ни одной детали этой случайной волнующей картины.
Женя снова подумала, что если бы все происходящее было музыкой, то это было бы что-то очень пронзительное и гармоничное, что хочется слушать и слушать, восхищаясь и не понимая, как же оно так гениально и естественно придумано. Митя на мгновение оторвался от Жени, взял её за плечи и посмотрел ей в глаза.
— Жень… Ты же наверное … (он запнулся, подбирая слова)… ещё ни с кем никогда…
— Да, Мить. Ещё ни с кем никогда.
— Я постараюсь сейчас остановиться, — сказал он, возвращая футболку на Женины плечи и аккуратно поправляя на ней сарафан. — Не бойся, ладно? Это будет только если ты захочешь. И в тот день, когда ты захочешь.
— Спасибо, Мить. А в тот день… Как я скажу тебе, что уже… ну… согласна?
— Мне? Например, скажешь: «Я больше не боюсь».
— Хорошо. Я больше не боюсь. Тут никто не ходит и тепло. А куртки у нас с собой. Если в два слоя положить, будет мягко.
Женя была благодарна Мите за то, что в этот момент он не сказал ни слова. Не улыбнулся и не рассмеялся. Не сказал какую-нибудь шутку, чтобы разрядить обстановку. А молча и сосредоточенно достал из рюкзаков куртки и потянул Женю за собой, в небольшой закуток парка, закрытый со всех сторон высокой акацией. (Женя вспомнила из детства: пустые спелые стручки акации превращаются в музыкальный инструмент, только надо умело сложить вместе две половинки и потом дудеть в них, найдя нужное направление и силу дыхания). Там они целовались, опустившись на колени и все смелее обнимая друг друга. Женя больше не останавливала Митины руки. Это было самое смелое и взрослое из всего, что до сих пор случалось в Жениной жизни. Но сейчас это ощущалось как единственно верное. Митины руки и пальцы были именно там, где должны были быть. Там, где их хотела Женя. Она догадалась, что влажность её тела подсказывает Мите какое-то решение. Или убеждает не передумать. И поэтому ни капельки не сопротивлялась, а наоборот, помогала ему, меняя положение, чтобы Мите было легче. Женины руки потянулись к его ремню, ослабили пряжку, быстро расстегнули пуговицу и молнию. Женя почувствовала, как Митя в этот момент стал серьёзнее, сильнее и настойчивее. И одновременно нежнее. Дальше она долго-долго целовалась с Митей, задыхаясь от радости, когда чувствовала тёплое широкое кольцо его рук. Кольцо осторожно приподнимало её ближе к Митиным губам, а затем, наоборот, настойчиво прижимало к мягким квадратам стёганой куртки. Потом Митины руки ненадолго исчезли, заставив Женю тосковать о себе и искать своего обнимающего тепла. А Митя в эти секунды осторожно провёл ладонями по ее ногам, подсказывая им согнуться в коленях и пустить его. Женя послушно помогала Мите и ждала. Она и правда не боялась. Но когда сильная острая боль пришла к ней, она быстро втянула губами воздух, как, бывает, делают при внезапном порезе, и, не совсем контролируя себя, попыталась высвободиться и выскользнуть. В этот момент Митины руки удержали её на месте.
— Тихо-тихо, Жень… Погоди…
Женя опять благодарно отметила, что он не сказал дурацкое «расслабься» или нечестное «потерпи». Вместо этого он спросил:
— Жень, давай я сделаю одно сильное движение? И всё.
— Хорошо…
На мгновение стало очень больно. Женя невольно заплакала. Митя замер и стал целовать Женю, как ребёнка, в лоб и щёки, отвлекая её от боли. «Маленькая моя», — подумал он и пообещал себе, что это первый и последний раз, когда Женька из-за него плачет. В этот момент он хотел, чтобы ни одна девчонка в мире больше не плакала от боли. Он сразу понял, до самого сердца, всю-всю правду про носить тяжёлое, открывать двери, оберегать и защищать. Все эти банальности, миллион раз сказанные уставшими учительницами и прочитанные на дешёвых открытках, вдруг оказались правдой, написанной Женькиными слезами и жалобными всхлипами, которым он, Митя, был причиной. Он думал все это и прислушивался к Жениному телу, пытаясь угадать по ослабевающему напряжению, когда боль отступит. Он почувствовал, что уже можно, и стал осторожно двигаться внутри Жени. На каждое его движение приходился взмах её влажных ресниц, открывавших глубокие зелёные глаза, в которых была задумчивость и напряжённое внимание, но больше не было боли. Митя отчаянно вглядывался в лежащую перед ним девушку, полностью открывшуюся ему и беззащитную, и с каждой секундой чувствовал к ней все большую нежность.
… Намочив чистой водой платок, Митя смывал алые следы с Жениных ног. Жене было неловко, но она не мешала ему и не закрывалась. Митя любовался ею. Он понял, что не испытывал ещё в жизни большей радости, чем смотреть на притихшую, смущенно лежащую на его куртке девушку и на капли воды на её коже, которые падали с мокрой ткани, из Митиных ладоней, и тут же сбегали ручейками вниз, рисуя на её ногах хрустальные кольца из мелких бусин. К этим каплям хотелось приникнуть губами, но Митя не стал, догадавшись, что Женя пока ещё стесняется такой ласки.
Митя лёг рядом с Женей и погладил её волосы. Укрыл её краем куртки. И ничего не надо было говорить.